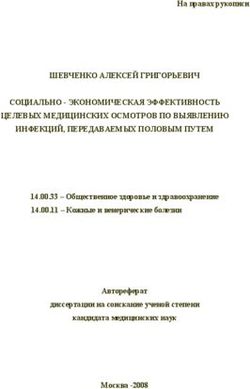Прометей парадоксальный - Антон Пушин
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Антон Пушин
Прометей парадоксальный
Реферат по курсу "Антропология литературы Серебряного века" (Руководитель
Н.Г. Полтавцева)
Попытка приблизиться к античной тематике в творчестве русских
символистов в первый момент пугает масштабами проблематики и сложностью
систематизации. Даже беглое знакомство с творчеством писателей начала
XX века убеждает, что никто из них не остался равнодушен к античным
мотивам и аллюзиям. Античность занимала в умах и душах символистов место
чуть ли не сопоставимое с заботами окружавшей их действительности, и часто,
нужно сказать, помогала найти подход для осмысления этой самой
действительности.
Рецепция
Литература о Серебряном веке порой предлагает некоторую схему
заимствования античных тем, мотивов и концепций символистами и пытается
обобщать в том духе, что, мол, такой-то поэт в основном интересовался
Эсхилом, а у этого-то главным образом античная героика, а у третьего – эротика
etc. Но творческий котел Серебряного века кипел настолько бурно, что
попытки разгородить сферы интеллектуального осмысления и эмоционального
переживания у авторов Серебряного века представляется занятием
малоуспешным. И античный миф нередко становился тем камертоном, вокруг
которого разворачивались самые яркие и драматические визионерские
построения русских символистов.
Конечно, наиболее очевидной формой рецепции античности стало
воспроизведение в произведениях символистов образов и сюжетов античной
мифологии. Однако такое формальное заимствование вряд ли стоило бы
выделять отдельно, поскольку оно происходило на всех этапах развитиялитературы и, более того, свидетельствовало скорее о консерватизме
заимствующего. Творческий запал символистов быстро преодолел рамки
классического античного мифа, античность переосмыслялась, сюжеты
изменялись и приобретали новые значения. Символисты фактически писали
новую античную мифологию (в качестве иллюстрации, "Цирцея" Валерия
Брюсова, обладающая чертами, далеко выходящими за пределы классического
представления о царице). Аналогичным образом, многие символисты
отождествляли себя с античными героями, придавая тем самым мифическим
персонажам индивидуальные черты и даже предлагая поэтическую рефлексию в
отношении этих черт.
Однако влияние античности, конечно же, не сводилось лишь к
сюжетному заимствованию, даже с учетом переосмысления. Образы античной
мифологии и истории во многом определяли поэтический строй русских
символистов, однако не исчерпывали их интерес к античности. Античное
искусство, в первую очередь, представляло авторам-символистам поле для
формальных поисков. Андрей Белый в статье "Символизм как миропонимание"
писал: "И поскольку форма воплощения образа (техника искусств) касается
самого образа, составляя как бы его плоть, постольку технические вопросы
формы начинают играть первенствующее значение; отсюда связь между
символизмом и классическим искусством Греции и Рима. Отсюда же интерес
символистов к памятникам античной культуры, воскрешение латинских и
греческих поэтов, изучение ритма, стиля и словесной инструментовки мировых
гениев литературы".
При этом формирование художественного языка для русских
символистов приравнивалось к перестройке жизни и формированию
окружающей действительности. И в этом настроение античности, для которой
жизнь определялась искусством, и роль художника носила легко
распознаваемые демиургические черты, было для них крайне близким. Русский
символизм расцветал под негасимым светом афоризма глубоко почитаемого
ими Фридриха Ницше, что "бытие и мир оправданы в вечности только как
эстетический феномен".
Будучи оправданной для русских символистов с этической точки зрения,
античность обладала для них и бесспорной референтной эстетическойценностью, по ней примерялись и по ней оценивали художественные
произведения.
Наконец, вслед за Ницше, именно через античный миф символисты
осмысливали мир. Временная дистанция, отделяющая образный ряд от
наблюдаемой действительности, позволяла авторам абстрагироваться от боли и
бед, от бытовых неудобств и личных треволнений, связанных с неспокойной
эпохой. Соединение окружающих их событий с античной метафорикой, а также
болезненный контраст между этими двумя планами поэтической мысли
позволяли глубже постичь миропорядок, открывая затаенные, неочевидные
смыслы явлений. Словами Ханзен-Леве, символисты "воспринимают
противоречие между современностью, т.е. причинно-эмпирическим
рационализмом настоящего, и анахроничностью, т.е. невозвратностью, архаико-
мифологического как отражением трагического, "грехопадения" духа…; это
сознание невозможности "возвращения" к райской непосредственности
архаического является для мифопоэтов не только предметом рефлексии, но и
главным методом построения символистских художественных текстов…
мифопоэты символизма взыскуют почти археологического обнаружения
ахронических пластов под "асфальтом" современности, под хрупким "лаком"
цивилизации. Можно было бы сказать короче: символист десимволизирует,
демифологизирует канонизированные, но утратившие содержание культурные
мифы и ремифологизирует (суб) культурные периферийные зоны…"
Обращение символистов именно к мифу логично, поскольку
мифологическое мировоззрение строится по законам цикличности,
возвратности. Миф для символистов обладает неразрушимой аурой
истинности, как акт сакральный, совершающийся как бы сам по себе, по воле
природы или Бога и потому имеющий высший авторитет. Он лишен
насильственной авторитарности индивидуальной точки зрения, а освящен
универсальной силой всеобщего сознания. Вячеслав Иванов в своем эссе
"Эстетика и исповедание" говорил с некоторым народовольческим пафосом, что
"миф – тогда впервые миф в полном смысле этого слова, когда он – результат не
личного, а коллективного, или соборного, сознания. Современный же
художник только начинает жить и дышать в атмосфере исконно-народного
анимизма. До всеобъемлющего мифологического созерцания еще далекийпуть". Миф должен, по мысли Вячеслава Иванова ("Поэт и чернь"),
"примирить" художника как нового демиурга и Чернь (написанную с большой
буквы).
При этом нарушенная с точки зрения рационалистического сознания
логика мифа, разрушенные каузальные связи позволяют осмыслить мир как
неразрывное единство человека, времени, пространства, Бога. Именно
неразрывность мира, невозможность его расщепления на пласты, модусы,
аспекты становится основой символического сознания и символического
искусства, в котором миф является универсальной моделью.
Стоит отметить, что символисты использовали в своем творчестве не
только античную мифологию, но и мифологию северных народов, германскую и
скандинавскую мифологию, а также славянские мифы, сказки и предания. И
такая "мифологическая всеядность" символистов важна, поскольку, соединяясь
в рамках одного произведения или одной концепции с другими мифами (когда
Юпитер встречается в стихах Валерия Брюсова с Перуном или Тором или
христианские мифы смешивались с античными у Вячеслава Иванова вокруг
фигуры Диониса), античные мотивы приобретали неожиданное звучание и
новые смыслы.
Миф в творчестве русских символистов получал не только историческое
значение, как это было у Брюсова, который придавал особое значение
сопричастности прошлому, выявлению через миф общего и наиболее
существенного для любой исторической эпохи. Александр Блок даже
революционный заряд эпохи осмысливал через античных персонажей, не
обязательно мифических, например, в "Катилине" (хотя, как отмечают,
античность не стала любимой темой для Блока). Античность становилась также
внутренним, сугубо лирическим пространством поэтов, являясь изысканным
медиумом для передачи любовных, эротических переживаний (например, в
творчестве Зинаиды Гиппиус).
Все вышеизложенное является лишь введением в тему, поскольку, не
отважившись на полное и всестороннее описание идеи античности в творчестве
русских символистов, я решил ограничить данное эссе лишь однимиллюстрацией заимствования мотивов античной мифологии русскими
символистами. И выбор мой пал на миф о Прометее. Надо признаться, что
выбор носил чисто прагматический характер: в моем – как оказалось на поверку
– дилетантском представлении, борющийся и мятежный Прометей должен был
стать у символистов античным братом бунтующего демона, созвучным
революционной предчувствию эпохи. И был искренне удивлен, обнаружив, что
Прометей совсем не был столь уж популярным среди символистов, а его образ
был иногда весьма далек от вагнерианского эталона, который я знал по
симфонической "мистерии" Скрябина. И, однако ж, по порядку…
Прометей Иванова
Наиболее полный образ Прометея в литературе русского символизма
принадлежит Вячеславу Иванову. Первоначально трагедия "Прометей" должна
была стать частью трилогии. Но, по всей видимости, остальные сюжеты
трилогии привлекали Иванова много меньше. "Прометея" же он писал долго и
полностью опубликовал в 1919 году.
Иванов решительно меняет миф, при этом в вводной статье
легитимирует такую вольность отношением к мифу самих "эллинов", "для коих
миф был или предметом простодушной веры, или смутным и гадательным
воспоминанием о действительных событиях, или, наконец, — как для автора, —
символом духовных истин, орудием имагинативного познания
сверхчувственных сущностей. Эллинам она [вольность] не казалась
предосудительною, — был бы верно сохранен дух, оживляющий мифологему.
Но и верность духу мифа — понятие зыбкое и относительное: проще, — на
трагических поэтов, со времени достигнутого трагедией господства в круге
мусических искусств, возложено было эллинами дело живого мифотворчества,
судили же их по плодам предоставленной им ответственной свободы".
Прометей Иванова не борец и мученик, он больше похож на
преступника, нарушившего космический порядок, ту музыку сфер, гармонию
сфер, в которой звучание стремится из прометеевых пещер и сливается с
божественным светом и которая для символистов является символом
одушевленного и одухотворенного космоса и высшей ценностью. ТрагедияВячеслава Иванова строится на противопоставлении хаотического (ночного)
начала Прометея и космической гармонии (дня).
Прометей лжет и богам, и людям, он жаждет распрей и смуты, ведет к
гибели Пандору, которую сам же попросил у богов, и несет людям не свет
божественный, а лишь природный огонь молний. Он предстает этаким
суетливым смутьяном, в котором возвышенное поступка растворяется в его
интенции.
При этом характерно разведение у Иванова света как аполлонического
упорядочивающего, космического и божественного (например, светоносный
образ Христа у символистов), начала и огня как дионисийской символики.
Огонь становится источником жизни, а прометеевское начало берет начало над
символикой света, видения, познания. Природа порождает хаос, в котором
жизнь соединена со смертью, бытие и небытие неразрывно связаны (Прометея
порождает Гея-природа, она же наделяет Прометея и волей).
Преступление Прометея коренится в его деятельном начале. "Грех –
свершение" (заклинают Эриннии), поскольку Прометей "положил душу свою за
человеков, но совершил этот подвиг не как Агнец Божий, а как мятежный
Титан, — в грехе и дерзновенной надежде". Иванов рассуждает о вине
Прометея (и для него "нет разделяющей границы между виною и
обреченностью!") говорит о действии, которое "в своей механической
насильственности, сводится или к разрушению и убийству, или к хищению",
наказуемое его же двойником ("хищной Пандорой") Прометей стремится
забыться в своем деятельном начале. ""Мне недосуг страдать", — презрительно
бросает он своей мучительнице, Эриннии; и все же страдает непрестанно.
Титаническое начало облагорожено страданием, как начало божественное
свидетельствуется соприродным ему блаженством, неиссякающим в недрах его
радованием. Прометея-страдальца переполняет, вместе с тем негреющим
светом сознания, такой избыток мощно пылающей любви и глушимой
презрением ненависти, что ему одно остается: перед самим собой притвориться
бесчувственным".
Оправданием Прометею служит лишь то, что отдал себя без остатка
людям, но дело свое титаническое начал, отказавшись от неба и от единствабожественного (просьба "исторгнуть" из него все женское перед его
героическим актом).
Похищение огня Прометеем (и любого действия) становится актом
святотатства как "исхищение совершенной Идеи из покоища истинного бытия в
быстрину алчущего", и Иванов противопоставляет его акту мыслительному и
творческому, как нарушение гармонии, в которой Слово предшествует Делу.
Творчество же есть акт, освещенный небесным светом. Для Иванова
поэт есть провидящий, посредник космоса ("Небо – вверху, Небо – внизу").
Иванов говорит о "пожаре сердца" поэта как о соответствии земному и
небесному огню, в котором стихийное горение утрачивает разрушительную
силу благодаря спасительной миссии Диониса. Словами Ханзен-Леве,
"дионисийское спасение охватывает, прежде всего, сердце человека (символом
которого также является горящее сердце Христа)".
Однако и в творчестве сохраняется двойственность действия и
предзаданность смерти. Символисты нередко сопоставляют предназначение
поэта с прометеевским началом, говоря о дьяволизме, "негативном
мессианизме" художника – "свето-носца"/Люци-фера (например, у Валерия
Брюсова в "Славьте! Дьявол победил"), освобождающего человечество от
морально-этических, религиозных, общественных и т.д. ограничений.
Прометей Брюсова
Романтичное и даже лиричное осмысление тема Прометя получила в
экспериментальной синтетической симфонии Валерия Брюсова
"Воспоминание". Исследователи творчества Брюсова пишут, что "введение
образа Прометея в симфонию, безусловно, было навеяно появившейся в 1911
году симфонической поэмой А. Скрябина "Прометей" – ярчайшим образцом
практического воплощения идеи синтеза (музыки и света, точнее, цвета),
имеющего огромную силу резонанса в культурной среде общества того
времени. Образ скрябиновского Прометея, олицетворяющего "гения огня",
инициатора человеческой цивилизации, сумевшего противостоять Зевсу и
готового встретить свою трагическую судьбу величественно и гордо, не мог не
импонировать Брюсову". Неслучайно Брюсов оставался крайне скептичнонастроен к трагедии "Прометею" Иванова.
Брюсов не разрабатывает сюжетную, событийную и психологическую
канву мифа о павшем полубоге, но использует образ Прометея в качестве
метафоры, чтобы сравнить его страдания с действием воспоминаний на
лирического героя симфонии.
Вторая часть симфонии "Разработка" начинается сразу с момента
воздаяния Прометею за его подвиг: "Ты, Прометей, Прикованный к скале
Колхиды...". Основным лейтмотивом героя становится его одиночество,
оставленность на границе двух стихий, моря и скалы (отметим, что в творчестве
символистов горы часто являются принадлежностью богов, а море – хаосом,
неупорядоченной, природной стихией).
Прометей одинок и незащищен перед воспоминаниями, которые
налетают в образе "Зевесова крылатого орла", "по воле Громовержца
взрывающего грудь титана". Однако Прометей у Брюсова наделяется той
внутренней свободой (что значительно смещает акценты в образе титана по
сравнению с трагедией Иванова), которая делает победу орла невозможной:
"Зевс! Враг беззаконный!... Кричать не устану, что муки – награда, Что ты –
побежден, что победа – моя!" И становится символом противостояния "ярости
когтей" воспоминаний. Таким образом, Брюсов поднимает метафору на
уровень высокой патетики, возвращая Прометею его героическое значение и
объединяя его с героями других частей (Наполеоном, Бетховеном,
Страдальцем). Прометей, конечно, лишь метафора, носитель определенных
черт, лишенный истории и психологизма. Именно поэтому Брюсов в других
частях симфонии говорит о "новом Прометее", "другом титане" и т.д.
Брюсов предваряет симфонию "Воспоминанье" эпиграфом из "Ада"
Данте, таким образом, заявляя основную идею симфонии, идею возмездия за
недолгое счастье, идею текучести времени, вечности, рока и воздаяния. В
"прометеевской" части симфонии адом становится воспоминание, терзающее
сердца страдальцев.
Прометей Брюсова, конечно, в значительно большей степени
соответствует героическому осмыслению этого мифологического персонажа, в
немалой степени сформированному под влиянием философии Ницше и драмы"Освобожденный Прометей" П.Б. Шелли. Именно таким бунтарское,
героическое начало этого античного мифа появляется у многих символистов. В
качестве примера можно вспомнить лирику Константина Бальмонта, у которого
Прометей также страдает за народ, получая почти христианское, мессианское
осмысление, и даже приобретает черты ницшеанского сверхчеловека. Вместе с
тем, прометеевская героика у многих символистов постепенно
переосмысливается в демонических терминах, превращая (часто в связи с
осмыслением поэтического труда и поэтической миссии) Прометея в "несущего
свет" Люцифера.
Использование темы Прометея и идеи прометеевского бунта в
творчестве русских символистов позволяет проследить, каким образом
символисты "жили" с античным наследием. Образ Прометея не только получил
новое осмысление, но и претерпел значительную трансформацию на
протяжении Серебряного века. При этом "прометеевские" сюжеты
использовали весь символический спектр поэзии (концепции космоса, огня,
божественного и природного, деятельного и творческого, женского и мужского,
etc.) и зачастую был призван транслировать идеи, которые не были связаны с
сюжетом античного мифа. Метафорическое использование образа Прометея
Валерием Брюсовым и другими поэтами-символистами, бесспорно,
схематизировало титана, что еще сильнее высвечивает парадоксального и
сверхсложного Прометея Вячеслава Иванова.
Литература:
А. Белый. Символизм как миропонимание [Авт. вступ. ст. и примеч. Л.
Сугай]. - Москва : Республика, 1994
А. Блок. Катилина [сост.: С. Лесневский, Б. Романов]. - Репр. изд. -
Москва : Прогресс-Плеяда, 2006
В. Брюсов. "Воспоминание" (найдено в интернете)
Вяч. Иванов. Собрание сочинений в 4 т. [Под. ред. Д. В. Иванова и О.Дешарт ; С введ. и примеч. О. Дешарт]. - Брюссель, 1971-____
А.Ф. Лосев. Диалектика мифа. - Москва : Академический Проект, 2008
З.М. Минц. Поэтика русского символизма. - СПб. : Искусство-СПБ,
2004
А. Ханзен-Лёве. Русский символизм : Система поэтических мотивов:
Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика; [Пер. с нем.
М. Ю. Некрасова]. - СПб. : Акад. проект, 2003
А. Ханзен-Лёве. Русский символизм. - СПб.; 1999Вы также можете почитать