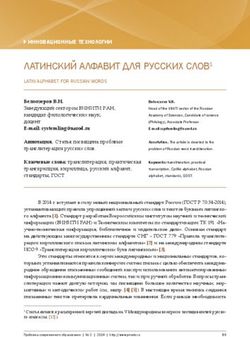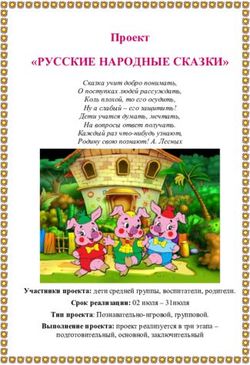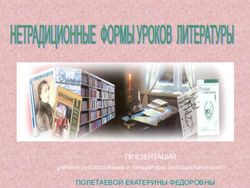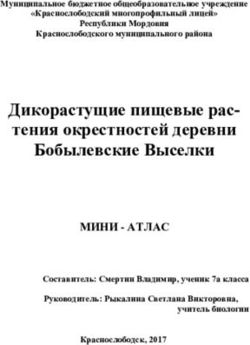ИЛЬЯСОВ ВАДИМ САДЫКОВИЧ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ "ПИТАНИЕ" В РУССКОМ И ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
На правах рукописи
ИЛЬЯСОВ ВАДИМ САДЫКОВИЧ
ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ «ПИТАНИЕ» В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ)
10.02.19 – теория языка
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Саратов – 20192
Работа выполнена на кафедре теории, истории языка и прикладной лингвистики
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Балашова Любовь Викторовна
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры германской филологии
Института филологии и межкультурной
коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
Солнышкина Марина Ивановна
кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой переводоведения и
межкультурной коммуникации
Саратовского социально-экономического
института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Тимофеева Надежда Павловна
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Защита состоится «30» мая 2019 г. в ______ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.243.02 ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского» по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83,
XI корпус, ауд. 301.
С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке
им. В.А. Артисевич и на сайте ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»:
https://www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/2019/02/18/dissertaciya_ilyasova.pdf
Автореферат разослан «__» ________ 2019 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета Ю.Н. Борисов3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Объектом диссертационного исследования является
фразеосемантическое поле «Питание» (далее ФСПП), то есть фразеологические
единицы (далее ФЕ) в их широком понимании, включающие в свой состав
члены семантического поля «Питание» (далее – СПП), в русском и арабском
языках.
Предмет исследования – концептуально значимые принципы
структурирования и формирования семантики фразеологизмов, объединенных
семантической общностью формального состава и внутренней формы в
неродственных языках.
Актуальность работы определяется несколькими причинами.
Во-первых, антропоцентризм современной лингвистики [Алефиренко
2010; Арутюнова 1998; Бенвенист 1974; Степанов 2007] обусловливает
повышенный интерес к исследованию языковой картины мира (далее ЯКМ)
[Апресян 1995; Бартминьский 2005; Бутакова 2001; Вайсгербер 1993а;
Вержбицкая 2000; Орлова 2005; Пищальникова 2001; Постовалова 2016;
Тимофеева 2011; 2015; Уфимцева 2011; Урысон 2003; Яковлева 1994; Taylor
1995], особенно тех участков системы языка, которые в наибольшей степени
связаны с отражением «совокупности представлений о мире», «системы
взглядов и предписаний, которая навязывается в качестве обязательной всем
носителям языка» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 9]. Фразеология, по
мнению исследователей, является одним из основных способов репрезентации
ЯКМ, поскольку ФЕ относятся к «наиболее культурно маркированным
образным единицам любого языка» [Алефиренко 2008: 5], а «система образов,
закрепленных во фразеологическом составе языка, служит своего рода «нишей»
для кумуляции мировидения ... данной языковой общности, а потому может
свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях» [Телия
1996: 214].
Во-вторых, к числу наиболее спорных и активно обсуждаемых проблем в
современной лингвистике относятся: определение фразеологических единиц,
их онтологических признаков и классификация, место в уровневой структуре
языка [Бабкин 1970; Баранов, Добровольский 2008; Бахи 2013; Григорьев 2006;
Давлетбаева 2012; Дядечко 2002; Жуков 2006; Илюхина 2010; Кунин 1986;
Мокиенко 2010; Савенкова 2002; Телия 1996]. Не менее дискуссионными
остаются вопросы, связанные с определением, способами репрезентации и
степени этноспецифичности ЯКМ [Балашова 2014; Голованова 2016;
Замалетдинов 2004; Панде 2011; Попова, Стернин 2007; Рогалева 2014;
Шайкевич 2005; Яковлев 2017]. В частности, нет единства в характеристике
места фразеологии в выражении ЯКМ [Абакумова 2013; Анохина, Латыпова
2015; Бабушкин 1996; Борщева 2012; Бредис 2015; Веренич 2013; Закиров,
Мингазова 2009; Малюгина 2007; Наджим 2016; Наумов 2013; Наумова 2012;
Сагинтаева 2010].
В-третьих, анализ именно фразеологических единиц, включающих в свой
состав члены СП «Питание» в неродственных и разноструктурных (русском и
арабском) языках, носители которых существенно отличаются друг от друга по4
условиям жизни, религии, истории и культуре, чрезвычайно актуален в рамках
лингвистического, когнитивного и культурологического направлений. С одной
стороны, данное поле относится к числу универсальных в системе любого
языка, а его члены активно включаются в процесс идиоматизации, а с другой –
состав, семантика (и ее концептуально-прагматическая составляющая) членов
СПП во многом определяются экстралингвистическими факторами, в
частности, географическими, культурно-историческими особенностями в жизни
конкретного этноса [Акрам 2016; Капелюшник 2011; Козько, Пожидаева 2013;
Косвои 2014; Куренкова 2008; Петерс, Филатова 2017; Пьянкова 2008; Юрина
2008].
Цель исследования – установить общее и специфическое в
концептуальных принципах идиоматизации русских и арабских
фразеологизмов (в широком их понимании), включающих в свой состав члены
СП «Питание».
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) По лексикографическим источникам установить состав русского и
арабского ФСПП;
2) Проанализировать структуру и семантику СП «Питание» в составе
русских и арабских ФЕ;
3) Охарактеризовать семантику русских и арабских членов ФСПП;
4) Выявить концептуальные принципы идиоматизации внутренней
формы русских и арабских фразеологизмов с членами СП «Питание»;
5) Установить экстралингвистические и собственно лингвистические
факторы, обусловливающие принципы концептуализации мира на основе
русских и арабских членов ФСПП.
Методологической базой работы являются антропоцентрический подход
к исследованию содержательной стороны языковых явлений, что
обусловливает необходимость использования в диалектическом единстве
лингвистических, когнитивных и культурологических методов анализа
языкового материала. Цель и задачи диссертационного сочинения определяют
применение комплексной методики, включающей современные
семантические, лингвокогнитивные и лингвокультурологические методы
анализа языковых единиц в системно-структурном и контрастивном аспектах.
Материалом исследования послужили лексикографические данные
толковых, семантических, фразеологических словарей, а также словарей
пословиц и поговорок русского и арабского языков (см. список использованной
литературы). На основании сплошной выборки из лексикографических
источников было выявлено 714 русских ФЕ и 337 арабских ФЕ, включающих в
свой состав члены СП «Питание». Именно эти фразеологизмы составили
эмпирическую базу исследования.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые выделены и
комплексно проанализированы в семантическом, лингвокогнитивном и
лингвокультурологическом аспектах русское и арабское фразеосемантические
поля «Питание»; проанализирована структура и семантика СП «Питание» в
составе русских и арабских ФЕ, а также семантика данных ФЕ; выявлено общее5
и специфическое в принципах идиоматизации внутренней формы исследуемых
фразеологизмов; установлены экстралингвистические и собственно
лингвистические факторы, обусловливающие общее и специфическое в
принципах концептуализации мира с помощью русских и арабских членов
ФСПП.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что проведенное
исследование позволяет уточнить некоторые положения о процессе
формирования и структурирования фразеосемантических полей в
неродственных и разноструктурных языках; о концептуальных принципах
идиоматизации внутренней формы фразеологических единиц разного типа,
включающих в свой состав лексику одного семантического поля; о роли членов
единого фразеосемантического поля в репрезентации ЯКМ; о факторах,
влияющих на формирование и структуризацию близких по внутренней форме
ФЕ в неродственных языках и разноструктурных языках.
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и
конкретный материал исследования могут быть использованы при чтении
курсов по теории языка и перевода, общей семантике, лингвокультурологии; в
лексикографической практике при составлении одноязычных и двуязычных
фразеологических словарей; в преподавании русского и арабского языков как
иностранных.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Лексемы из СП «Питание» регулярно используются при формировании
русских и арабских ФЕ, что свидетельствует о концептуальной значимости
этой семантической области для той части русской и арабской ЯКМ, которая
получает отражение во фразеологии в широком ее осмыслении (коллокации,
идиомы, паремии). Меньшее число арабских ФЕ отчасти объясняется тем, что
арабский стандартный (наддиалектный) язык (а именно он преимущественно
отражен в словарях) принципиально традиционен (ориентирован классический
коранический язык), исключает заимствования, сводит к минимуму
разговорные, сниженные единицы из современных территориальных диалектов.
Но в обоих языках исследованные ФЕ образуют сложно организованные
фразеосемантические поля, системность которых имеет концептуальное
значение и проявляется в нескольких аспектах.
2. В дискурсивно-стилистическом аспекте русская ЯКМ,
репрезентируемая с помощью ФСПП, ориентирована преимущественно на
фольклорно-народную и разговорную традицию, хотя фиксируются также
книжные библеизмы и западноевропейские семантические кальки,
фразеологизованные прецедентные фразы из литературных текстов XIX – XX
вв. Арабская ЯКМ однородна и связана с фольклорно-народной и книжной
традицией классического арабского языка, с фразеологизованными цитатами из
сакральных и классических средневековых литературных текстов.
3. В лексико-статистическом аспекте ядро русского и арабского ФСПП
составляют две группы из СП «Питание», акцентирующие внимание на
физиологической стороне удовлетворения потребности в еде («Пища»,
«Потребление пищи и отношение к ней»), а две другие группы6
(«Приготовление пищи», «Артефакты для приготовления и потребления
пищи») занимают периферийное положение, то есть на первый план выходит
именование самой возможности удовлетворить потребность, обобщенных
номинаций пищи, блюд национальной кухни – с минимальной
дифференциацией их качества и вкуса (вкусная / невкусная, калорийная /
некалорийная еда).
4. В целом лексический состав используемых во фразеологизмах членов
СП «Питание» отражает преимущественно традиционные условия жизни и
рацион питания русского и арабского этносов, прежде всего – русских крестьян
в дореволюционной России и средневековых арабов-бедуинов. Этим
обусловлены языковые различия в лексике, зафиксированной в ФЕ (номинации
конкретных продуктов и блюд, способов их приготовления, используемых
артефактов). Но если арабская ЯКМ в данном аспекте исключительно
традиционная, то русская ЯКМ более разнородная, включающая наименования
западноевропейских блюд, получивших распространение в России XIX – XX
вв. Другая группа межязыковых различий связана с культурой застолья, с
нравственно-этическими нормами отношения к еде. В частности, в арабских
ФЕ большое место занимают лексемы, именующих участников застолья, их
регламентирующие их поведение во время трапезы.
5. В семантико-статистическом аспекте русское и арабское ФСПП
отмечены принципиально значимыми общими свойствами. При идиоматизации
многие члены ФСПП остаются в рамках СП «Питание», хотя семантика таких
ФЕ обычно сложнее, чем семантика соответствующих лексем. Оба ФСПП
отличает полевая организация: ядро – семантическая сфера (далее СФ)
«Человек» (преимущественно личностный, социальный и деятельно-
событийный аспекты его бытия), околоядерная зона – СП «Питание»; ближняя
периферия – СФ «Абстрактные понятия»; дальняя периферия – СФ «Природа»
и СФ «Артефакты»). Семантика обоих ФСПП исключительно
антропоцентрическая и достаточно диффузная, что отражает тенденцию к
целостной и преимущественно экспрессивно-оценочная характеристике
человека в его связях с окружающим миром. Принципы оценки во многом
идентичны и включают два основных аспекта: (1) физиологический,
психологический, личностный, социальный, утилитарный комфорт человека;
(2) социальные, нравственно-этические, религиозные нормы
жизнедеятельности человека.
6. Не менее концептуально значимыми оказываются семантико-
статистические различия в русском и арабском ФСПП. В русских ФЕ больше
внимания уделено физиологическим (гедонистическим в своей основе)
аспектам питания, а в арабских – его этикетной и нравственно-этической
(религиозной в своей основе) стороне. В русских ФЕ более важное место
занимает характеристика родственных и межличностных связей, а арабском –
личностных свойств человека. В русских ФЕ дается характеристика как
результативной, так нерезультативной деятельности, а в арабских ФЕ акцент
делается на достижении успеха. Основной мотивацией к активности русского
человека позиционируется материальное, социальное неблагополучие; а7
арабского – морально-нравственные догматы Ислама. В целом русская КМ
(сквозь призму семантики членов ФСПП) предстает более негативной,
конфликтной и амбивалентной, соответствующей традиционной системе
стереотипов, тогда как арабская – более однородная, позитивная, декларативно-
дидактическая в своей основе.
7. Системность в семантической организации русского и арабского
ФСПП обусловливает формирование регулярных принципов мотивации
значений данных ФЕ. Наиболее ярко это проявляется в ядерной и околоядерной
зонах. В рамках СП «Питание» самой устойчивой оказывается модель
семантического расширения (по принципу метонимии, синекдохи) отраженной
во внутренней форме ситуации. В рамках СФ «Человек» наиболее
последовательно реализуются две концептуальные, метафорические в своей
основе модели преобразования внутренней формы ФЕ. В первой, самой
частотной из них модели различные аспекты жизнедеятельности человека
осмысляются в рамках общей ситуации удовлетворения человеком его
потребности в пище, причем в формировании сигнификативной и
прагматической зон значений ФЕ отражены две основные точки зрения:
гедонистическая (физиологическая) и нравственно-этическая. В основе второй
модели идиоматизации лежит представление о человеке как о пище.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
докладывались и обсуждались на 5 международных и всероссийских
конференциях: V Всероссийская научно-практическая конференция «Личность
– Язык – Культура» (Саратов, 26-28 ноября 2014 г.); Всероссийская научная
конференция «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов, апрель 2014
г.); Всероссийская научная конференция «Филология и журналистика в XXI
веке» (Саратов, апрель 2015 г.); Всероссийская научная конференция
«Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов, апрель 2017 г.); II
Международная конференция арабского языка (Амман-Иордания, 21-23 апреля
2015 г.); по теме диссертации опубликовано 7 статей, в том числе 3 – в
реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложения, включающего
словари исследованных русских и арабских ФЕ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определяются объект и предмет, цели и задачи работы;
устанавливается актуальность исследования, его теоретическая и практическая
значимость, методологические и теоретические основы; указывается
эмпирическая и теоретическая база исследования, излагаются основные
положения, выносимые на защиту.
В ГЛАВЕ 1 «Актуальные проблемы изучения фразеологии в
лингвистическом, когнитивном и культурологическом аспектах»
рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с определением и
классификацией ФЕ, с семантикой и внутренней формой ФЕ, с исследованием
ЯКМ и местом фразеологии в ее репрезентации.8
В частности, дается анализ различных точек зрения на определение и
онтологические характеристики ФЕ, на узкое и широкое понимание
фразеологии [Абдуллина 2007; Амосова 1963; Ахманова 1957; Балли 1951;
Борщева 2012; Буянова, Коваленко 2013; Виноградов 1977; Жуков 1986;
Мокиенко 1989; Молотков 1972; Райхштейн 1968; Савицкий 2006; Саютина
2012; Смирницкий 1956; Солнышкина 1995; 1995; Телия 2009; Тимофеева 1995;
Третьякова 2011; Шанский 1972; Crystal 1995; Fernando 1996; Pawley 2007].
Поскольку в данной работе отражено широкое понимание фразеологии [Аппоев
2012; Архангельский 1964; Кацюба 2013; Кетенчиев, Геляева 2016; Кузьмина
2002; Кунин 1972; Савенкова 2002; Семененко 2000; Шанский 1985],
категориальными признаками ФЕ признаются «неоднословность»,
«воспроизводимость», «структурная устойчивость», «идиоматичность»
(семантическая устойчивость), «отсутствие авторства», а «номинативность»,
«экспрессивность», «образность» относятся к возможным, типичным, но
необязательным характеристикам.
Тем самым объектом фразеологии считаются сверхсловные
воспроизводимые, структурно устойчивые единицы (синтагмы), включая
функционально предиктивные, обладающие хотя бы относительной
семантической целостностью (идиоматичностью): идиомы, коллокации,
паремии. Крылатые выражения, прецедентные фразы, афоризмы речевые
формулы, штампы и клише [Аничков 1997; Баширова 2010; Дядечко 2002;
Каленова 2011; Чернышева 1970; Чернобай 2012; Шанский 1972; Cowie 1998]
исключаются из состава фразеологии, поскольку они «разнородны», не
являются «лингвистической категорией» [Баранов, Добровольский 2008: 70],
представляя собой «типичные для какого-либо литературно-публицистического
направления, стиля автора способы отбора языковых средств»,
непосредственно связаны с определенным источником, автором, который
«мыслится как общеизвестный» [Телия 1996: 72, 75]. Но в результате
длительного и устойчивого функционирования данные единицы могут
подвергаться идиоматизации, приобретая статус фразеологических, как это
свойственно, например, многим библеизмам в русской, польской фразеологии;
ФЕ на базе Корана и классических произведений арабской литературы в
арабском языке и других языках, носители которых исповедуют Ислам
[Бабашева 2011; Бекиров 2012; Бетехтина 1999; Григорьев 2006; Закиров 2010;
Исмаилова 2011; Кулиев 2012; Мечковская 1998; Мохаммад-заде, Мехтиханли
2012; Наумов 2013; Рубинчик 1981; Ушаков 1994; 1996; Хейри Аль-Аббаси
1998; اﻟﻔﺮاھﯿﺪي،1998; وﺣﯿﺪ،2006; اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 1986]. В целом фразеологический корпус
любого языка представляет собой полевую структуру, ядерные члены которой
(идиомы и паремии) содержат максимальное число возможных онтологических
признаков ФЕ, а периферия (коллокации) – лишь некоторые из них.
Не менее дискуссионным остается вопрос о природе фразеологического
значения. Ряд исследователей полагает, что данное значение принципиально не
отличается от значения лексического [Верещагин; Костомаров 1990; Молотков
1972; Шанский 1985]. Но в большинстве современных работ фразеологизм
определяется как сложный в структурном и семантическом отношениях,9
производный языковой знак [Архангельский 1964; Виноградов 1977; Воронкова
2013; Жуков 1978; Мелерович 1979], которому присущи мотивированность и
полипризаковость, принципиальная нелинейной модели семантики (в
когнитивном плане это полипризнаковый классификационный или
аксиональный фрейм). В динамическом аспекте семантика ФЕ может быть
представлена как своего рода «свернутый» текст, который разворачивается
благодаря когнитивным процедурам, осуществляемым при формировании,
воспроизведении и восприятии фразеологизма [Алефиренко 2008; Гудков,
Ковшова 2007; Кузьмина 2002; Телия 1996].
Таким образом, формирование и функционирование фразеологизма
всегда осуществляется с опорой на его внутреннюю форму, но природа этого
феномена и, соответственно, статус отдельных структурных компонентов ФЕ
вызывает дискуссию. По мнению одних исследователей (ср.: [Смирницкий
1956; Солодуб 1997]), компоненты фразеологизмов сохраняют статус
самостоятельных лексических единиц; по мнению других (ср.: [Ахманова 1957:
171]), эти элементы можно охарактеризовать только как потенциальные слова;
большинство же лингвистов (ср.: [Алефиренко, Золотых 2000; Телия 1981])
полагает, что компоненты ФЕ лишаются словных свойств лишь частично, «так
или иначе участвуют в образовании фразеологического значения»; «наделены
некоторой долей семантической самостоятельности» [Жуков 1978: 80].
В соответствии с этой дискуссией внутреннюю форму ФЕ характеризуют
как этимологическое и историко-этимологическое толкование, как буквальное
или актуальное значение, как фразеологический образ и инвариантный смысл
[Арсентьева, Семушина 2013; Блинова 2007; Быкова 2005; Воронкова 2013;
Каленова 2011; Мокиенко 2013]. Преобладающей является точка зрения,
согласно которой понятие внутренней формы ФЕ «не сводится ни к ее
этимологии, ни к ее актуальному значению» [Глотова 1999: 18-19]. Данный
феномен сложно организован в семантическом и когнитивном аспектах
[Арсентьева, Семушина 2013; Бабушкин 2011; Быкова 2005; Жуков 1978;
Тимофеева 1995; Третьякова 2011], является важной частью семантики ФЕ,
представляя собой «формализованный семантический элемент, символ
фразеологического значения», «средство экспликации образа, служащего
способом соотнесения предмета мысли и значения» ФЕ [Алефиренко 2008: 62].
Более того, «носитель языка, употребляя идиому, не может абстрагироваться от
порождаемого ею образа» [Баранов, Добровольский 2008: 221].
Практически во все современных исследованиях отмечается
непосредственная связь формирования и функционирования ФЕ с
когнитивными процессами, опирающимися в том числе на этноспефическую,
культурологическую составляющую ЯКМ. Однако сам термин «языковая
картина мира» в лингвистике является дискуссионным. На основе анализа
работ XIX – первой половины XX в. [Вайсгербер 1993; Гумбольдт 1984; 1985;
Сепир 1993;Уорф 1960], а также современных исследований [Бартминьский
2005; Брагина 2007; Бутакова 2001; Вежбицкая 2000; Воркачев 2005; Демьянков
2007; Иссерс 2012; Карасик 2013; Касевич 2013; Кацнельсон 2011; Кибрик 2015;
Корнилов 2011; Кравченко 2013; Крючкова 2009; Лихачев 1997; Маслова 2010;10
Орлова 2005; Панде 2011; Поповa, Стернин 2007; Серебренников 1988;
Слышкин 2004; Солнышкина, Габдрахманова, Шигалова 2015; Степанов 2007;
Стефанский 2008; Тимофеева 2011; 2015; Толстой 1995; Топоров 2005;
Успенский 1994; Цивьян 2009; Чейф 2015; Чжу 2017; Pinker 1994]
подчеркивается, что ЯКМ является одной из наиболее значимых в жизни этноса
картин мира (КМ), и ей, как и другим картинам, присущи антропоцентризм,
целостность, знаковость. ЯКМ взаимодействует с другими КМ, но имеет ряд
принципиальных особенностей, причем наиболее ярко это проявляется в
противопоставлении ЯКМ и научной (объективированной, энциклопедической)
КМ. В соответствии с этим ЯКМ представляет собой сложный и
многоаспектный феномен, формирующийся и развивающийся во
взаимодействии с логическим познанием, с историей и культурой этноса, но не
тождественный им. В частности, в ЯКМ, в отличие от научной КМ, отражены
обыденные («наивные») представления о мире, «тривиальные» понятия
[Апресян 1995; Кацнельсон 2011]; ЯКМ более консервативна и стабильна,
отражает опыт многих поколений, не создается сознательно, но этой
«коллективной философией» неосознанно овладевает каждый говорящий на
данном языке по мере того, как он овладевает языком [Корнилов 2011]; ЯКМ не
универсальна, а самобытна и неповторима.
Практически все исследователи отмечают особую роль фразеологии в
формировании и репрезентации ЯКМ [Аламшоев 2017; Алефиренко 2008;
Алефиренко, Аглеев 2013; Баранов, Добровольский 2008; Золотых 2013;
Матвеева 2017; Мокиенко 1986; 1999; Полюжин, Венжинович 2009; Садыкова,
Шангараева 2013; Саяпова 2013; Телия 1996; 1999; 2004; Толстая 2006; Цой,
Мэн 2011]. Но в ряде работ последних лет абсолютизируется
этноспецифичность и самостоятельность тех картин, которые выражается с
помощью ФЕ. Данные картины называют фразеологическими, пословичными
[Абакумова 2011; Абишева 2012; Бабкин 1979; Буянова 2010; Венжимович
2013; Веренич 2012; Зверева 2002; Малюгина 2007; Фаткуллина, Сираева 2013;
Хайруллина 2000; 2013; Чернобай 2012;]. Мы, как и многие другие
современные исследователи (ср.: [Борщева 2012; Дракулич-Прийма 2012;
Зыкова 2014; Илюхина 2010; Наджим 2016; Наумов 2013; Остапович 2013;
Ябжанова 2010; Eismann, 2002]), считаем, что можно выделять
«фразеологический фрагмент», «фразеологическую составляющую»
этнической ЯКМ, поскольку фразеология не является самостоятельным
уровнем языка, не образует целостной и самодостаточной семантической и
концептуальной системы; невозможно выделить также самостоятельный
фразеологический концепт: ФЕ являются важным, но не единственным
способом такой вербализации [Баранов, Добровольский 2008; Борщева 2012;
Воркачев 2005; Вражнова 2005; Остапович 2013]. Уточнению этой и других
дискуссионных проблем, связанных с исследованием фразеологии в
лингвокогнитивном и лингвокультурологическом аспектах, посвящена, в
частности, данная работа.
ГЛАВА 2 «Члены СП «Питание» в составе русских и арабских
фразеологизмов» посвящена анализу лексики из СП «Питание», включенной в11
русские и арабские ФЕ; общему и различному в семантике, конкретном составе
и концептуальной значимости используемых во фразеологии членов русского и
арабского СПП.
В частности, отмечается, что СП «Питание» в семантическом аспекте в
обоих языках чрезвычайно разнообразно по значениям, сложно организовано и
ориентировано на отражение нескольких (физиологических, социально-
культурных, личностных, коммуникативных) аспектов, связанных с
удовлетворением потребности человека в еде. Именно поэтому в русском и
арабском СПП, наряду с семантическим ядром, выделяется достаточно
обширная периферия, члены которой актуализируют базовые компоненты
семантики питания только при указании на определенную ситуацию,
отражающую прием пищи, ее приготовление и т.п. (ср.: печь в традиционном
русском доме используется для обогрева и для приготовления пищи;
аналогичную позицию занимает арабская лексема ‘ اﻟﻨﺎرочаг, огонь’). Поэтому
при отборе фразеологического материала и его дифференциации учитывалась
многозначность русских и арабских лексем, регулярное использование
некоторых слов в сочетании с ядерными членами СПП в составе ФЕ при
обозначении ситуаций, имеющих отношение к питанию. Например, в ФЕ обоих
языков ситуация званого обеда обусловливает регулярную номинацию едоков,
участников застолья, как хозяина (ُ )ﺻَﺎﺣِﺐи гостя (ُ( )اﻟﻀﯿﻒср.: Незваные гости
грызут кости; « ﺳﻜﻮت اﻟﻀﯿﻒ ﻣﻦ ﺑﺨﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲМолчание гостя (с аппетитом ест
предложенное угощенье) в радость хозяину»1). В русских ФЕ при
экспрессивной (обычно шуточной, иронической) характеристике качества
блюд, желания есть и т.п. ситуативно вовлекаются в состав СПП номинации
артефактов, флоры, фауны и т.п., непригодных в пищу (ср.: Суп из топора;
Воздухом питаться; На чужой стороне и жук мясо). Во внутренней форме
арабских ФЕ, характеризующих ситуацию застолья, регулярно именуются
действия и артефакты, связанные с ритуально-этикетной застольной гигиеной:
омовение рук хозяином и гостями в определенной последовательности, чистка
и ополаскивание зубов (ср.: « ربﱡ اﻟﺒﯿﺖ آﺧﺮ ﯾﻐﺴﻞ ﯾﺪﯾﮫХозяин дома последним моет
руки»; ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﺼﺤﺔ اﻟﻨﺎب و اﻟﻨﻮاﺟﺬ، و ﺗﻤﻀﻤﻀﻮا،« ﺗﺨﻠﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻄﻌﺎمМойте руки после еды
и споласкивайте рот – это здоровье для клыков и коренных зубов»).
Как показал анализ лексикографических источников, ядерные и
периферийные лексемы из СП «Питание» активно используются в составе
коллокаций, идиом, паремий исследуемых языков, что свидетельствует о
концептуальной значимости этой семантической области для русской и
арабской картин мира, репрезентируемых с помощью фразеологии в широком
ее понимании.
Русские и арабские ФЕ с лексемами из СП «Питание» формируют
однотипные по структуре фразеосемантические поля. Однако в количестве
русского и арабского ФСПП, в конкретном составе семантических групп (СГ) и
подгрупп, в функционально-стилистической характеристике русских и
1
Значения русских и арабских слов, ФЕ обозначаются с помощью английских одиночных кавычек (‘’);
дословный перевод (буквальное значение) арабских ФЕ – с помощью двойных французских кавычек («»).12
арабских лексем из СПП, в степени активности их использования при
формировании ФЕ есть не только общее, но и различное (см. табл. 1).
Таблица 1 – СП «Питание» в русской п арабской фразеологии
Кол-во рус. Кол-во араб.
Семантические группы подгруппы
ФЕ ФЕ2
1. Пища 469 (65,7%) 226 (67,1%)
1.1. Общие номинации пищи 72 (10,1%) 68 (20,2%)
1.2. Еда по времени принятия пищи и по назначению 20 (2,8%) 5 (1,5%)
1.3. Продукты питания 291 (40,7%) 120 (35,6%)
1.4. Кушанья 174 (24,4%) 35 (10,4%)
1.5. Напитки 51 (7,1%) 22 (6,5%)
1.6. Вкусовые ощущения 43 (6%) 12 (3,6%)
1.7. Качество пищи 24 (3,4%) 8 (2,4%)
2. Приготовление пищи 74 (10,4%) 21 (6,2%)
2.1. Обработка продуктов и приготовление пищи 65 (9,1%) 17 (5%)
2.2. Отходы от приготовления и после приема пищи 10 (1,4%) 2 (0,6%)
2.3. Культурно-исторические особенности искусства
0 (0%) 0 (0%)
приготовления пищи
2.4. Приготовление пищи как профессиональная
5 (0,7%) 3 (0,9%)
деятельность
3. Потребление пищи и отношение к ней 306 (42,9%) 169 (50,1%)
3.1. Поглощение и переваривание пищи 174 (24,4%) 86 (25,5%)
3.2. Органы пищеварения 83 (11,6%) 25 (7,4%)
3.3. Состояния, связанные с потребностью в пище и ее
64 (9%) 52 (15,4%)
поглощением
3.4. Обеспечение пищей кого-либо 25 (3,5%) 10 (3%)
3.5. Застолье 32 (4,5%) 36 (10,7%)
4. Артефакты для приготовления и потребления
73 (10,2%) 30 (8,9%)
пищи
4.1. Место для приготовления пищи и его меблировка 5 (0,7%) 7 (2,1%)
4.2. Место для приема пищи и его меблировка 14 (2%) 3 (0,9%)
4.3. Кухонная утварь и сервировка стола 65 (9,1%) 20 (5,9%)
Всего 714 (100%) 337 (100%)
Согласно статистическим данным, количество членов арабского ФСПП
(337 ФЕ) меньше, чем русского ФСПП (714 ФЕ). Представляется, это связано
не только с несколько меньшим объемом арабского фразеологического
материала в специализированных и толковых словарях (по сравнению с
аналогичным русским), но и с тем, что арабский стандартный (наддиалектный)
язык (а именно он получает преимущественное отражение в
лексикографических источниках) принципиально традиционен (ориентирован
классический коранический язык), исключает заимствования из других языков
и сводит к минимуму разговорные, сниженные единицы из современных
территориальных диалектов.
2
Здесь и далее следует учитывать, что поскольку в одной ФЕ регулярно содержится несколько членов
СП «Питание» (ср.: Сладок мед, да не по две ложки в рот; « ﻓﻜﺎن ﺧُﺒْﺰا ﺑﻤِﻠْﺢ ٍ \ ﻗﺒﻞَ اﻟﻄﻌﺎم أﻛَﻠْﻨﺎИ был хлеб с солью перед
едой (основной трапезой), и мы уже съели их»), то сумма числа ФЕ с лексемами из отдельными групп,
подгрупп поля значительно превышают 100%, то есть общее количество фразеологизмов в русском и арабском
ФСПП.13
Это отражается на дискурсивно-стилистических источниках и
характеристиках исследуемых фразеологизмов. В русском языке большинство
ФЕ связано с фольклорно-народной и разговорной традицией (Ешь досыта, а
делай до поту; За семь верст киселя хлебать); кроме того, фиксируются также
библеизмы, семантические кальки из западноевропейских языков,
подвергшиеся фразеологизации прецедентные фразы из литературных текстов
XIX – XX вв. (Как манны небесной ждать; Аппетит приходит во время еды;
Видит око, да зуб неймёт). В арабском языке абсолютное большинство ФЕ
можно связать с фольклорно-народной и книжной традицией классического
арабского языка, с фразеологизованными цитатами из сакральных текстов
(Корана и Хадисов), из классической средневековой арабской литературы ( أﻛﻞ
«( اﻟﺰﺑﯿﺐ ﺣﺒﺔ ﺣﺒﺔЕшь изюм по одному»); «( وﺣﺴﺒﻚ ﻣﻦ ﻏﻨﻰ ﺷﺒﻊ وريДостаточно того,
что указал на сытость и довольство»: слова поэта Имру аль-Кайса).
Следовательно, в данном аспекте русская ЯКМ, репрезентируемая с помощью
членов ФСПП, более разнородная, хотя основу ее, как и в соответствующей
арабской ЯКМ, составляет традиционная, во многом фольклорно-народная
стихия.
Семантико-статистический анализ лексем из СПП в русской и
арабской фразеологии показал, что в обоих языках ядро представлно СГ
«Пища» (рус. яз. – 65,7% единиц ФСПП; араб. яз. – 67,1%) и СГ «Потребление
пищи и отношение к ней» (рус. яз. – 42,9%; араб. яз. – 50,1%), тогда как СГ
«Приготовление пищи» (рус. яз. – 10,4%; араб. яз. – 6,2%) и СГ «Артефакты для
приготовления и потребления пищи» (рус. яз. – 10,2%; араб. яз. – 8,9%)
занимают периферийное положение. Следовательно, носители исследуемых
языков воспринимают питание преимущественно в физиологическом аспекте –
удовлетворение одной из физиологических потребностей человека и пища как
источник такого удовлетворения (Из семи печей хлебы едать; َﻓﻜﺎن ﺧُﺒْﺰا ﺑﻤِﻠْﺢ ٍ \ ﻗﺒﻞ
« اﻟﻄﻌﺎم أﻛَﻠْﻨﺎИ был хлеб с солью перед едой (основной трапезой), и мы уже съели
их»); приготовление же еды и различные аксессуары, используемые в процессе
приготовления блюд и насыщения ими, в концептуальном аспекте играют
второстепенную роль. Не случайно в русских и арабских ФЕ, в состав которых
включены лексемы из периферийных СГ, регулярно фиксируются также слова
из ядерных СГ (Кто кашу заварил, тот пусть ее и расхлебывает; اﺻﻨﻌﻮا ﻵل
ً« ﺟﻌﻔﺮ ﻃﻌﺎﻣﺎПриготовьте для семейства Джафара еду аль-вадыма»).
Среди лексем из СГ «Пища» в составе ФЕ обоих языков преобладают
номинации самой еды: обобщенные, особенно в арабских ФЕ (еда, пища, харчи,
корм; اﻟﻄّﻌﺎم, اﻷﻛﻞ, ُاﻟﻐِﺪَاء, ُاﻟْﻘُﻮت, )اﻷﻃﻌﻤﺔ, и конкретизированные (продукты, кушанья,
напитки: мясо, рыба, мед, хлеб, пирог, масло; ‘ ﻟﺤﻢмясо’, َ‘ ﻣَﺮَﻗَﺔбульон; суп’, ﺗَﻠَﺬُّذ
‘сладости’). Наименования же качества пищи и вкусовых ощущений от нее в
ФЕ фиксируются достаточно редко, особенно в арабском языке (рус. яз. – около
10% ФЕ; араб. яз. – 6% ФЕ), причем эти характеристики обычно предельно
обобщенные (вкусно / невкусно: В чужом огороде огурцы вкусней; ٍأﻟﺬّ ﻣِﻦْ زُﺑْﺪ
« ﺑِﻨِﺮْﺳِﯿﺎنВкуснее, чем нирсиян (вид финика из г. Куфа)»). Тем самым, и в
семантическом аспекте русские и арабские ФЕ ориентированы на
традиционную ЯКМ, в которой отражена жизнь, прежде всего, русского14
крестьянина и араба-бедуина: тяжелый физический труд обусловливают
необходимость питаться полноценно и сытно, а вкусовые качества еды
становятся второстепенными. Показательно, что включенные в состав ФЕ
наименования продуктов, кушаний, напитков, как правило, соответствуют
традиционной русской и арабской кухне.
Но именно это (различия в рационе питания, в среде обитания)
обусловливает существенные межязыковые различия в конкретном составе
лексем из СГ «Пища». Так, в русских ФЕ наиболее последовательно и
разнообразно представлены наименования: злаков, продуктов их обработки,
кушаний из них (ср.: хлеб, рожь, жито, мука, тесто, квашня, толокно, калач,
булка, каравай, пирог, блины, оладьи, лепешка, пышка, сухарь, пряник,
коврижка); первых (жидких) блюд (ср.: щи, суп, похлебка, уха, варево, солянка,
ботвинья); бобовых культур, круп и отварных кушаний из них (ср.: крупа,
пшено, просо, гречневый, горох, бобы, каша, сыть). Достаточно активно
используются при формировании русских ФЕ номинации молочных продуктов
(ср.: молоко, масло, сметана, сливки); традиционных напитков (ср.: вода, квас,
кисель), а также различных овощей, ягод и фруктов, произрастающих, как
правило, в средней полосе России (ср.: репа, редька, свекла, картошка,
капуста, лук, чеснок, клюква, смородина, калина, малина). Менее регулярно в
составе русских ФЕ фиксируются наименования мясных блюд из говядины,
свинины, курятины, зайчатины и т.п. (ср.: корова, поросенок, курица, петух,
яйцо), а также из рыбы, чаще – речной (ср.: рыба, карась, судак, окунек, щука).
Примечательно, что семантический ряд «Алкогольные напитки» в составе
русских ФЕ представлен достаточно редко (3,5% ФЕ) и почти исключительно
номинациями традиционных слабоалкогольных хмельных напитков (мед, пиво,
брага) или обобщенным наименованием вино, тогда как лексема водка
зафиксирована в одной ФЕ (Выпить водки из-под лодки). Отличительной
особенностью русской фразеологии является также то, что в ней, пусть в
небольших количествах, фиксируются наименования не только традиционной
русской кухни, но и западноевропейской, вошедшей в повседневный рацион
россиян в Новое время или воспринимаемой как экзотика (ср.: колбаса,
котлета, ветчина, угорь, килька, сельдь, шоколад, конфета, макароны, лимон,
чай, кофе, ананас).
В арабских ФЕ, напротив, одними из самых частотных становятся
номинации национальных мясных кушаний из баранины и верблюжатины,
реже – из курятины (ср.: ُ‘ اﻟﺴﱢﻜﺒﺎجаль-сикбадж; кушанье, приготовленное из мяса,
уксуса и бобов’; ‘ اﻟﻀﺄنбаран’;ُ اﻟﺨَﺮُوف, ‘ اﻟﺸﺎهовца’; ِ‘ اﻟﺸﱡﻮَﯾْﮭَﺔягненок’; اﻟﺠﻤﺎل, ِاﻹﺑِﻞ
‘верблюд’, َ‘ ﻧﺎﻗﺔверблюдица’, ٌ‘ ﻓَﺮَعпервенец верблюдицы’; ٌ‘ ﻧَﺎﻓِﻄَﺔкоза’; ُاﻟﺜَّﻮْر
‘бык’; ‘ ﻓﺮﺧﺔкурица; ‘ اﻟﺪِّﯾﻚпетух’; ‘ اﻟﺮﯾﺌﺔлегкие’, ‘ اﻟﻜﺒﺪпечень’, ‘ ﺳﻨﺎمверблюжий
горб’, ‘ اﻟﻜﺘﻒлопатка’, ‘ اﻟﺮأسголова (животного)’, ‘ اﻟﺸﺤﻤﺔжир’; ‘ اﻟﻌﻈﻢкостный
мозг’). Традиционная среда обитания арабов-бедуинов (жаркий и сухой климат
севера Африки и Ближнего Востока) обусловливает полное отсутствие
упоминаний о рыбных блюдах и включение в состав продуктов питания
наименований обитателей пустыни (ср.: ‘ اﻟﻀﺒﺎبяйцо ящерицы (варана)’; ﻃﯿﺎر
‘саранча’; ‘ اﻟﻐﺮابворон’). Из продуктов растительного происхождения в составе15
арабских ФЕ самым частотным оказываются номинации фиников ( )اﻟﺘﻤﺮи меда
()اﻟﻌﺴﻞ, а также кушаний, напитков на их основе (ср.: ‘ ﻓﺎﻟﻮذخаль-фалузаджа;
сладость из муки, воды и меда’; ُ‘ اﻟﺨَﺒﯿﺺаль-хабис; сладкий десерт,
приготовленный из фиников, перемешанных с маслом’; ‘ اﻟﺪﺑﺲсироп из меда’).
Кроме того, используются лексемы, именующие плоды и фрукты,
произрастающие в зоне традиционного обитания арабов (ср.: ‘ اﻟﺰﺑﯿﺐизюм’, اﻟﻌﻨﺐ
‘виноград’, ُ‘ اﻟﺘِّﯿﻨَﺔсмоква’, ِ‘ اﻟﺘِّﯿِﻦинжир’). Из напитков чаще всего фиксируются
наименования кофе ( )ﻗﮭﻮةи воды (( )اﻟﻤﺎءпоследнее обусловлено значимостью
свежей воды в жарком климате пустыни). Несколько номинаций спиртных
напитков встречаются только во фразеологизованных прецедентных фразах из
классической арабской поэзии домусульманской поры, поскольку Ислам
нетерпим к алкоголю (ср.: ‘ اﻟﺨﻤﺮвино’, ‘ ﺻﺒﻮحсабух; утреннее вино’). В целом
отличительной особенностью арабских ФЕ является регулярное включение в
состав ФЕ наименований пищи, связанной с культурно-исторической
традицией: ритуальных блюд; кушаний с точки зрения допустимости ее приема
правоверным мусульманином (ср.: ‘ ﻃﻌﺎمаль-валима; кушанье, которое
готовится только в честь гостя’; ‘ اﻟﺨُﺮْسаль-харс; блюда, которые готовятся при
рождении ребенка’; ‘ وَاﻹﻋْﺬَارаль-изар; кушанья, которые готовятся при
обрезании мальчика’; ْ‘ واﻟﻨﻘِﯿﻌَﺔаль-накиа; кушанья, которые готовятся перед
брачной ночью для молодоженов’; َ‘ اﻟﻮَﻛِﯿﺮَةаль-вакиру; свадебные кушанья’; ٌﺣَﻠَﺎل
‘халяль; правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища’).
Аналогичные тенденции прослеживаются в использовании в составе
русских и арабских ФЕ лексем из второй по значимости СГ «Потребление
пищи и отношение к ней». Ориентация на отражение преимущественно
традиционного образа жизни русского крестьянина и бедуина-кочевника
обусловливает активное включение процесс идиоматизации слов, именующих
сам процесс поглощения и переваривания пищи; состояния, связанные с
потребностью в пище и ее поглощением, а также органы пищеварения; ср.:
есть, съесть (ﯾﺄﻛُﻠﮫ ﺗﺄﻛُﻠُﻨﻲ, ﻛُﻞ, أﻛﻠﺘﻢ, َ ;)ﯾَﺄْﻛﻞголод, голодный, голодать (ُﺟﻮع, اﻟﻄَﻔْ ُﺮ,
)اﻟﺠﯿﻌﺎن, сытый ()اﻟﺸﺒﻌﺎن, наесться (ﺷﺒﻊ4), объесться ( ;)أﻛﻞрот ( ﻣﻀﻤﺾ,ﺧَﻀْﻢ, ;)ﻓﻢ
губы ( ;)ﺷَﻔَﺎهзубы ( ;)ﺿﺮسгорло ( ;)اﻟﺰورживот ()ﺑَﻄْﻦ. Однако различия в составе и
семантике русских и арабских лексем из СГ «Потребление пищи и отношение к
ней», включенных в ФЕ, существенны и достаточно показательны в
концептуальном аспекте.
Так, в русских ФЕ фиксируется значительно больше (по сравнению с
арабскими ФЕ) слов, именующих физиологию поглощения пищи и степени
насыщения ею; это как обобщенные номинации, так и дифференцированные,
как общеупотребительные, так и стилистически маркированные (чаще –
сниженные, реже – книжные); в процесс идиоматизации могут вовлекаться
целые словообразовательные гнезда (ср.: есть, есться, едать, съесть, поесть,
наесться, приесться, выесть; кушать, откушать, вкушать, вкусить,
закусывать, прикусывать, выкусить, закусить, раскусить; хлебать, хлебнуть;
расхлебать; расхлебывать; голод, голодный, голодать, проголодаться; cытый,
досыта, вполсыта, сытный, сытно, несытно; алкать). В арабских ФЕ в
физиологическом аспекте более регулярно (по сравнению с русскими ФЕ)16
акцент делается на работе желудочно-кишечного тракта и органах,
принимающих в этом участие (ср.: ً‘ ﺣَ ﺒَﻄ ﺎвспучивание живота’; ‘ اﺗَّﺨَﻢнесварение
желудка’; ٌ‘ ﺿَﺮِطкишечные газы’; ‘ اﻟﻨﺎبклыки’; ‘ اﻟﻨﻮاﺟﺬкоренные зубы’; ﺑَﻄْﻦ, اﻟْﻤَﻌْﺪَ ُة
‘желудок’; ِ‘ اﻟﻜﺒﺪпечень’; َ‘ اﻟﻄُّﺤﺎلселезенка’). Возможно, в какой-то степени это
вызвано тем, что в условиях пустыни, без возможности получить
квалифицированную медицинскую помощь любое недомогание, связанное с
неправильной работой желудочно-кишечного тракта, может обернуться
настоящей бедой. Не случайно, в подгруппе «Застолье» выделяется
специальный ряд, члены которого характеризуют гигиенические процедуры,
совершаемые перед едой, во время и после нее (ср.: ‘ ﻏﺴﻞмыть; ополаскивать’;
‘ ﺗﺨﻠﻞмыть руки’; ‘ ﻣﻀﻤﺾсполаскивать рот’).
Но главной особенностью арабских ФЕ является то, что особое внимание
в них уделяется этикетной и нравственно-этической стороне питания (этот
аспект приема пищи отражен, в частности, в прецедентных сакральных
текстах). Не случайно доля ФЕ с лексемами из подгруппы «Застолье» более чем
в два раза больше, чем в русском ФСПП, а сами члены этой подгруппы
достаточно разнообразны по семантике (ср.: اﻟﻤﺎﺋﺪة, ِاﻟﺨِﻮان, ُ‘ دَﻋْﻮَةзастолье;
совместная трапеза’; اﻟﻨﱢﻌَﻢ, ‘ أﻛﻼتпиршество’; ﯾﺎﻛﻞ, َ‘ ﻗَﺪﱠمподать еду гостю’; ﺗﻮﺿﻊ
‘подавать еду; угощать гостей’; ﺣﻀﺮ, اﻟﻤﻮﺟﻮد1, ﻣﻮﺟﻮد2 ‘подача еды гостю; раздача
еды гостям’; اﻟﻤﺤﺴﻦ, دار اﻟﻜﺮام, ٍ‘ ﻛﺮﯾﻢхлебосольный’; ِاﻟﺠُﻮد1, ُاﻟﺴّﺨﺎء, اﻟﺠﻮد2
‘хлебосольство’). Этикетно-дидактический и нравственно-этический
компоненты актуализированы также при использовании в ФЕ некоторых
арабских лексем, характеризующих обеспечение пищей других (ср.: ُاﻃْﻌَﻢ1
‘кормить’; رِدِ اﻟﺨَﯿْﺮ, أﻃْﻌِﻢ2 ‘накормить’ – о приеме гостей; ‘ ﺳﻘﻲпоить’; ‘напоить’ –
о кофепитии). Аналогичная картина наблюдается в использовании членов
семантического ряда, характеризующего физиологию приема пищи, а именно:
количество потребляемой еды. Из 14 ФЕ лишь в двух фиксируются слова со
значениями ‘объедаться’ ()ﺗﺸﺒﻊ, ‘прожорливый’ (ُ)أﻧْﮭَﻢ, тогда как в 12 ФЕ – со
значением ‘пробовать; съесть немного; отведать’ (ْذُق, َذاق, ﺗﻄﻌﻢ, ُذُﻗْﺘَﮫ, ﺳُﻘُﻮا, ُأَﻟْﻘَﻤﺘُﮫ,
ْﯾَﺬُق, ﺟَﺮَّب, )ﻋﻠﯿﻚ. Безусловно, этикетный и нравственно-этический аспект питания,
например, хлебосольство, отражен и в русских ФЕ (ср.: потчевать, угощать,
подносить). Однако число ФЕ с подобной лексикой меньше, чем в арабском
ФСПП. Кроме того, совместная трапеза далеко не всегда осмысляется как
прием гостей хозяином (ср.: пир, пирушка, пировать, едок), а обеспечение
пищей обычно связано не с застольем, а с кормлением младших родственников,
домочадцев (ср.: вспоить, вскормить, прокормить). Концептуально
показательным является также то, что в русских ФЕ чаще фиксируются
лексемы, именующие неумеренность в еде (ср.: жрать, сожрать, обжорство,
трескать), нежели поглощение ее в небольших количествах, как этого требует
этикет совместной трапезы (ср.: отведать).
Особенности национальной кухни и бытовой культуры проявляются в
составе лексики из СГ «Приготовление пищи». Так, в русских ФЕ регулярно
используются именования процессов, связанных с переработкой зерна, муки,
круп, рыбы, с различными этапами приготовления хлебобулочных изделий,
каш и т.п. (ср.: молоть, перемолоть; тереть, толочь; потрошить; месить,17
замесить; пахтать; парить, заварить; печь, испечь, напечь). В арабских ФЕ
подобные номинации единичны (ср.: ‘ دشдробить (зерно, пшеницу)’), зато
фиксируется наименования особого способа приготовления мяса –
просушивание, вяления его на солнце ( ;)ﻗﺪﯾﺪ اﻟﻐﻨﻢболее активно по сравнению с
русским языком используются лексемы, характеризующие убой скота,
разведение очага для приготовления пищи (ср.: ْ‘ ﻓَﻠْﺘُﺬْﺑَﺢрезать (о животных)’; ُﻧَﻘَﺎﺋِﻊ
‘заклание’; أﻋﻘﺮ, ‘ ذﺑﺢзаколоть (о животном)’; ُ‘ ﺗُﻐْﺴَﻞُ رِﺟْﻼَهмыть ноги (птицы перед
убоем)’; َ‘ أوْﻗَﺪразжечь очаг’; ‘ ﻧﺎﻓﺦразводить (огонь в очаге)’; .‘ ﺗﺸﻌﻞразжигать
(огонь в очаге)’). В русских и арабских ФЕ фиксируются обобщенные
номинации приготовления пищи, процессов варки и жарения, но данные
лексические ряды в русских ФЕ значительно разнообразнее (ср.: наготовить,
состряпать; варить, вариться, сварить, наварить, заварить, уварить,
увариться; кипеть; жарить, жар, поджарить – ‘اﺷْﺘَﻮَىжарить’; اﺻﻨﻌﻮا
‘приготовить’, ْ‘ زَﺧَﺮَتприготовленный’). В целом меньшее (по сравнению с
русским языком) число лексем из данной группы и меньшее число арабских ФЕ
с такими словами, возможно, связано с культурным фактором: по традиции
приготовление пищи у бедуинов не афишировалось, проводилось вдали от
места трапезы и приема гостей.
Различия в бытовой культуре обусловливают также значительные
расхождения по языкам в составе лексики из СГ «Артефакты для
приготовления и потребления пищи» во фразеологии исследуемых языков. В
относительно немногочисленных русских ФЕ достаточно разнообразно
представлены именования мебели, кухонной и столовой утвари и т.п. (ср.: печь,
печка, стол; котел, горшок, ушат, кувшин, решето, ступа, кастрюля,
сковорода, сковородка, сковородник, поварешка, самовар, скатерть; блюдо,
тарелка, чаша, чашка, стакан, рюмочка, ложка). Арабских ФЕ с членами этой
СГ более чем в два раза меньше, а представленные в них лексемы менее
разнообразны по семантике, часто этноспецифичны (ср.: ‘ ﻛﺎزانказан’; وِﻋﺎء
‘горшок’; ‘ ﻗِﺪرкотел’; горшок’; ‘ اﻟﻤﺴﻮاﻃﺔмистиван; половник’; ‘ دﻟﺔкофеварка’;
‘ اﻻﺑﺮﯾﻖкофейник’; ﻛﺄس1‘чаша; кубок’; ‘ ﻓﻨﺠﺎنчашка’; ِﻛَﺄس2 ‘стакан’; ِ‘ اﻟﻤُﺪَاﻣَﺔбокал’;
ُ‘ ﺟِﻔﺎنмиска; блюдо’; ِ‘ اﻟﻄّﺒَﻖблюдце’). Это связано с тем, что в традиционном
жилище бедуинов-кочевников трапеза обычно проходила без использования
стационарного стола с минимальным набором посуды. Вместе с тем особое
место в арабских ФЕ занимают номинации открытого огня (очага),
выступающего в роли не только артефакта для приготовления пищи, но и
символа гостеприимства (ср.: ‘ ﻧﺎرочаг’; ‘ أوْﻗَﺪразжечь очаг’; ﻧﻔﺦ, ‘ ﺷﻌﻞразводить
очаг’). Не менее этноспецифичным становится вовлечение в состав группы
лексики, именующих артефакты для омовения и очистки полости рта,
благовоний, которые использовались в традиционном ритуале застолья (ср.:
‘اﻟﺨﺸﺐзубочистка’; ُ‘ اﻟﺴﱢﻮَاكсивак; щетка для чистки зубов, сделанная из веток и
корней дерева арак’; ‘ اﻟﺒﺨﻮرблаговония’).
Таким образом, состав и семантика лексем из СП «Питание»,
включенных в русские и арабские ФЕ, достаточно четко отражает место этого
процесса в жизни двух народов, традиционный рацион питания, традиционные
условия жизни русского и арабского этносов, прежде всего – русских крестьян18
и средневековых арабов-бедуинов. Вместе с тем ЯКМ, представленная в
русских ФЕ, не столь однородна и цельная, как та картина, что
репрезентируется арабскими ФЕ.
В ГЛАВЕ 3 «Семантика членов ФСП «Питание» и принципы ее
формирования» дается характеристика значений исследуемых ФЕ и основных
способов формирования этих значений. Отмечается, что семантика русских и
арабских фразеологизмов связана с различными семантическими сферами,
субсферами (далее ССФ), полями и группами и достаточно показательна в
концептуальном аспекте (см. табл. 2).
Таблица 2 – Семантика членов русского и арабского ФСПП
Кол-во рус. Кол-во араб.
Семантические сферы, субсферы, поля и группы
ФЕ ФЕ3
1. СП «Питание» 158 (22,1%) 170 (50,4%)
1.1. Пища 57 (8%) 33 (9,8%)
1.2. Приготовление пищи 9 (1,2%) 7 (2,1%)
1.3. Потребление пищи и отношение к ней 92 (12,9%) 130 (38,5%)
1.4. Артефакты для приготовления и приема пищи 0 (0%) 0 (0%)
2. СФ «Природа» 6 (0,8%) 1 (0,3%)
3. СФ «Артефакты» 16 (3,8%) 1 (0,3%)
4. СФ «Человек» 527 (73,7%) 205 (60,8%)
4.1. Физиология 27 (3,8%) 5 (1,5%)
4.2. Психика 73 (10,2%) 27 (8,1%)
4.3. Характер и поведение 120 (16,8%) 76 (22,6%)
4.4. Человек и социум 148 (20,7%) 47 (14%)
4.5. Жизнь в деятельном и событийном аспекте 159 (22,2%) 52 (15,4%)
5. СФ «Абстрактные понятия» 66 (9,2%) 20 (5,9%)
5.1. Бытие и время 11 (1,5%) 2 (0,6%)
5.2. Логико-прагматические связи и отношения 46 (6,4%) 18 (5,3%)
5.3. Количество 5 (0,7%) 0 (0%)
5.4. Субъективная модальность 4 (0,6%) 0 (0%)
Всего 714 (100%) 337 (100%)
В целом семантика русского и арабского ФСПП отмечена несколькими
принципиально значимыми общими свойствами.
Во-первых, при идиоматизации многие члены ФСПП (особенно
многозначные в своих первичных ЛСВ) остаются в рамках СП «Питание»:
22,1% всех русских ФЕ; 50,4% всех арабских ФЕ (именно поэтому данные ФЕ
выделены в отдельный класс), хотя семантика таких ФЕ обычно сложнее, чем
семантика соответствующих лексем.
Во-вторых, оба ФСПП в семантико-статистическом отношении отличает
полевая организация. Ядро составляет СФ «Человек», околоядерную зону – СП
«Питание»; ближнюю периферию – СФ «Абстрактные понятия»; дальнюю
периферию – СФ «Природа» и СФ «Артефакты»). Ядро и околоядерная зона
характеризуются не только бόльшим числом ФЕ, но и достаточно четкой
внутренней структуризацией, относительной системностью принципов
3
Поскольку многие русские и арабские ФЕ являются многозначными и каждый ЛСВ у таких ФЕ может
входить в различные сферы, СП и т.п., то общее число ФЕ и ФЕ в отдельных сферах, полях, группах не
совпадает с их суммой и может быть более 100%.19
мотивации семантики ФЕ. Немногочисленные члены периферийных СФ не
формируют внутренней структуры и системных способов преобразования
внутренней формы ФЕ в процессе идиоматизации.
В-третьих, оба ФСПП отличает ярко выраженный антропоцентризм
семантики их членов. Это проявляется в том, что не только ядерная и
околоядерная зоны характеризуют человека в его различных ипостасях, но и
значения большинства периферийных ФЕ включают субъективную оценку. В
частности, при именовании природных явления, артефактов дается их
утилитарная / эстетическая оценка (ср.: Будет дождь – будет и рожь1 ‘урожай
продуктов питания зависит от обилия осадков’. – ‘ ﻓﺎﻟﻮذخ اﻟﺴﻮقо красивом
пейзаже’; По такой дороге – повезешь молоко, а привезешь масло ‘об очень
плохой, ухабистой дороге’. – 1ِ‘ ﺻَﺎبَ ﺗَﻤْﺮَةَ اﻟﻐُﺮَابо приобретении ценной вещи,
артефакта’). Основу семантики ФЕ из сферы «Абстрактные понятия»
составляют субъективное восприятие и оценка времени, количества, логико-
прагматических связей и т.п. (ср.: Через час по чайной ложке ‘очень медленно’;
Масло масляное2 ‘что-л. избыточное, ненужное, лишнее’; На один зуб
положить ‘очень мало, недостаточно’. – ِ‘ ﻃْﻮَلُ ﻣِﻦْ ﯾَﻮْمِ اﻟْﻔِﺮَاقо чем-л., длящемся
невыносимо долго’; اﻟﺒﺼﻠﺔ،‘ اﻟﺒﺼﻠﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔо предметах, явлениях, между
которыми нет разницы’; ً وﻻَ ﻛﻞُّ ﺳَﻮْدَاءَ ﺗَﻤْﺮَة،ً‘ ﻣَﺎ ﻛﻞُّ ﺑَﯿْﻀَﺎء ﺷَﺤْﻤَﺔне все ценно, хорошо,
что имеет хороший внешний вид’).
В-четвертых, значения многих русских и арабских ФЕ являются
диффузными (ср.: Кто ест хрен да редьку, тот болеет редко ‘о пользе хрена и
редьки для здоровья человека’ – рацион питания; физическое состояние
человека; ِ‘ أرَادَ أَنْ ﯾَﺄْﻛﻞَ ﺑِﯿَﺪَﯾْﻦо том, кто имел заработок в одном месте, но по своей
алчности возжелал большего в другом месте, и в результате этого потерял все’
– характер человека, его материальное положение, изменение жизненных
обстоятельств). В концептуальном аспекте диффузность семантики ФЕ
отражает общую тенденцию давать целостную и преимущественно
экспрессивную характеристику окружающей действительности.
Общие и специфические черты русского и арабского ФСПП в
семантическом, мотивационном и концептуальном аспектах наиболее ярко
проявляются при анализе ядерной и околоядерной зон полей.
Как отмечалось, формируемые в процессе идиоматизации значения ФЕ
регулярно остаются в рамках СП «Питание» (см. табл. 2), причем наиболее
последовательно, как и в лексическом СП, фразеологизмы развивают значения
из СГ «Потребление пищи и отношение к ней» и СГ «Пища»; СГ
«Приготовление пищи» представлена небольшим числом ФЕ, тогда как СГ
«Артефакты для приготовления и приема пищи» полностью отсутствует. При
этом с е м а н т и к а конкретных русских и арабских ФЕ концептуально
насыщена.
В частности, ядро семантики большинства русских и арабских ФЕ из
данного СП составляет экспрессивная характеристика традиционного
отношения носителей русского и арабского языков к питанию. В обоих языках
удовлетворение потребности в еде признается жизненно необходимымВы также можете почитать